
Постоянный автор журнала.
Основные публикации:
Thoughts, equally pretentious and random
Спонтанное и оттого претенциозное
мысленное предисловие к стихам А.Шевченко
...завораживающие молитвенные констатации. Адресат молитвы гипотетичен, авторствует по определению читающий. Это страшно — растворяться в её образах, это выше сил человеческих — каждый раз превращаться в некую Александру Шевченко и жить, жить, жить. Если хочешь, смотри на это так: каждый раз Александра Шевченко вселяется в тебя, и ты слышишь привычное «Эй, Мэри-Энн, а ты что здесь делаешь? Беги-ка скорей домой и принеси мне пару перчаток и веер! Да поторопись!»
...как настоящий поэт, она глуха к другим. Что ей ненавистные восторги или восторженная ненависть? Поэт не слушает, а если даже изо всех сил пытается — то не слышит. Ему есть с кем поговорить, и вечно неуместные попытки вступить с ним в контакт выглядят нелепо и неуклюже, ему нет — и не должно быть — дела до чужой болтовни. Тут дело не в высокомерии, потому как поэту действительно нечего — и нечем — ответить, его обескураживает бестактная назойливость желающих говорить о тексте (или — не дай Бог! — просто говорить, транжирить слова на коммуникативные атавизмы), когда сам текст имеет целью совсем другое, когда едва различимое бормотание вечности слышится вдруг в запятых и трусливо безударных предлогах, когда кажется, что сойдёшь с ума, не найдя нужное слово — и сходишь, сходишь, сходишь...
┘и тут же хочется отказать ей в праве на собственность, и им — в праве на принадлежность, идивидуальность и индивидуализацию. Ответь: могут трава и ветер принадлежать кому-то одному? — Они универсальны...
┘они все одинаковы. Вариации, да. Берёшь в руки камешек и начинаешь его ощупывать, дотошно, пока он не раздвинется до размеров астероида, пока каждая ложбинка не станет самостоятельной, осмелеет и начнёт говорить — вот её метод. Её стихи все насквозь статичны, очевидно. Это всё тексты об одном и том же (об одной и той же?), их статика не только и не столько внешняя, но и внутренняя; собственно, это ментальные проекции одного и того же предмета. Снимки ежесекундных status quo — как там у Пастернака? — «Сто слепящих фотографий // Ночью снял на память гром». Невероятное наслаждение эмоциональной предсказуемости, а?..
...потрясающая (вот она, скудость эпитетов) комбинаторика слов. Понимание и умение обращаться с языком обнаруживается за выстраданными семантикой и грамматикой. Существуя отдельно от говорящего, язык, даже мёртвый, объективен. Конечная цель — это использование коллективного бессознательного в качестве инструмента самопознания и самовыражения, инструмента диалога с самим инструментом, не так ли? Оглянись: кто продвинулся дальше бесславных попыток, едва соображая, что он делает, заговорить на будто бы родном языке, который ему так показательно не даётся? — Слышится мне, что Александра.
...это ревность — и тут уж мне останется лишь обойтись суррогатом самоцитирования: «...ибо биение живого языка настолько сильнее шуршания пыли по углам, мычания (глухо-?)немых, что хочется закнуть уши и бежать, оглохнуть и ослепнуть самому. Александра, Вы-то понимаете, что то, что Вы пишите, просто непереносимо хотя бы тем, что кто-то другой — Вы — умеет сосредоточенно, с достоинством отчаяния выскулить богу то, что другие годами пытаются проорать в заросшее ухо?»

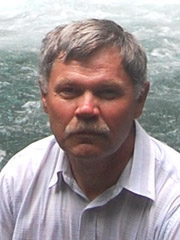
Редколлега журнала
Ересь от Александры и Ивана
Бокословие к спонтанному и оттого претенциозному
мысленному предисловию И.Будяка к стихам А.Шевченко
и ещё одно предисловие к её стихам
Я предложил написать заметку о творчестве Александры Шевченко именно Ивану Будяку, потому что, во-первых, в её разделе СИ он — самый частый гость, внимательный и отзывчивый; во-вторых, для меня-читателя и Иван, и Александра — одного поля ягоды, поля русского языка, на котором они успешно промышляют поэтические самоцветы.
Иван представил фрагменты записок пытливого смыслопроходца по трансцендентным поэтическим тропам Александры, этакие стенограммы сеансов критической левитации.
Сразу бросилось в глаза англоязычное название — привязка к системе творческих координат Александры. «Переводчик в душе», — написала она в подробной автобиографии, потому и титулы некоторых её стихов made in England: "The place is all wind", "deletable", "A letter"...
Итак, уже в начальных титрах шестисерийного монолога подсказано, что адресован он, в первую очередь, Александре — и дальнейшее чтение подтверждает это. Более того, на некоторые его фрагменты, в первородном виде комментарии к стихам Александры, она уже ответила в своём разделе.
В математике существует интереснейшая теория графов. С достаточной для понимания точностью, граф — это множество точек (узлов), соединённых линиями (рёбрами). Непрерывная цепочка рёбер, соединяющая два узла, образует путь.
Если под узлами понимать слова, а под рёбрами — строчные промежутки между ними, то в гра́фе, включающем все слова русского языка, любой текст есть путь от его первого до последнего слова. Для большого художественного текста такой путь весьма и весьма петлист уже за счёт многократного прохождения через узлы-предлоги, узлы-союзы и узлы-местоимения.
В предложенной модели выражение «прокладывать тропы» приобретает для автора буквальный смысл, особенно с учётом того, что тропы — это не только дорожки, но ещё и поэтические обороты.
Обычно, я лишь бегло просматриваю полученные от авторов подборки стихов и, если вопросов не возникает, размещаю файл в папке соответствующего номера журнала, откладывая глубокое ознакомление с текстами до времени оформления страниц.
Первое, пришедшее на ум: «Ну ведь надругательство над языком! ересь несусветная!»,
У Ивана: «...это ревность...»
Ну да, она.
Вечен тобой... Не хочу лишать читателей удовольствия самим дать толкование необычной сцепки обычных слов.
Интернет-поисковик Google выдал:
А вот по ключу «вечен тобой» — только 8, из которых 7 ведут на текст процитированного стихотворения, a 8-ая — на абракадабру.
Патент — в студию!
Вообще, в этом стишочке Александры что ни строчка, то самородок; по каждой хочется наваять небольшое «эсце» из желания выказать публике глубокое — в меру своего умения нырять — понимание написанного; плюс — в глубине души — навлечь на себя благосклонное внимание автора, а то и в добрые знакомцы угодить.
Помимо воли и желания вонзаются в память когтистые строчки её стихов. Вот,
Редкая и чудесная способность, возведённая в умение, — разрывать сильнейшее магнитное притяжение между словами, индуцируемое их многократными совместными повторами в обыденной речи и письме, и, наоборот, преодолевать их взаимное отталкивание, чтобы среди них, чуждых друг другу, но спрессованных в тесном поэтическом объёме, вдруг возникали новые смысловые связи, порождающие неведомые доселе кристаллексические структуры.
А мы — стразами из ваших «пустых» владений, Александра.